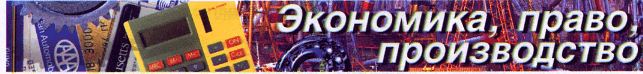
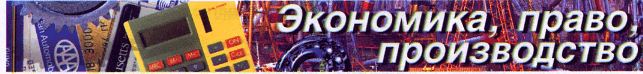
Орлов А.М.
Студия «Пилот ТВ»: Опыт
использования
систем Motion Capture
(сокращенный
вариант)
 Московская
анимационная студия «Пилот»,
основанная режиссером и художником
Александром Татарским в 1988 г., была
первой негосударственной студией
анимации в нашей стране. У ее
истоков стояли три человека, три
единомышленника: А. Татарский, его
друг и коллега режиссер анимации
Игорь Ковалев (ныне живет в США) и
культуролог, киновед, кандидат
физико-математических наук
Анатолий Прохоров. В России никогда
не было более живой и неформальной
студии. В 1991 г. она — единственная —
сразу откликнулась на августовские
события выпуском фильма «Путч»,
который был сделан буквально через
три дня после его начала и уже 22
августа был показан по СNN.
Московская
анимационная студия «Пилот»,
основанная режиссером и художником
Александром Татарским в 1988 г., была
первой негосударственной студией
анимации в нашей стране. У ее
истоков стояли три человека, три
единомышленника: А. Татарский, его
друг и коллега режиссер анимации
Игорь Ковалев (ныне живет в США) и
культуролог, киновед, кандидат
физико-математических наук
Анатолий Прохоров. В России никогда
не было более живой и неформальной
студии. В 1991 г. она — единственная —
сразу откликнулась на августовские
события выпуском фильма «Путч»,
который был сделан буквально через
три дня после его начала и уже 22
августа был показан по СNN.
Название студии отражает характер
ее деятельности: постоянное
движение, творческую
неугомонность, неустанные поиски
нового, отслеживание самых
современных направлений развития
анимации.
В 1997 г. от студии «Пилот»
отпочковалась новая студия
«Пилот-TV». Она начала работать на
базе компьютера SGI и полного
комплекта оборудования Motion Capture
французской фирмы Media Lab со
специально разработанным
программным обеспечением Clovis для
Silicon Graphics, благодаря чему на канале
ОРТ стала выходить передача
«Чердачок «Фруттис»», а затем и
другие, использующие трехмерные
компьютерные модели, анимированные
в реальном времени с помощью
системы датчиков движения.
В середине 2001 г. «Пилот-TV» под новый
телевизионный проект приобрела еще
один комплект Motion Picture, уже
последнего поколения, для PС
канадской фирмы Kaydara с программой
Film Box.
Накопленный на «Пилот-TV» опыт
использования технологий Motion Capture
для создания анимационных
телепрограмм в нашей стране во
многом просто уникален.
Говорит генеральный
директор «Пилот-TV» Прохоров
Анатолий Валентинович:
Когда в 1988 г. возникла анимационная
студия «Пилот», нам с Сашей
Татарским, и особенно мне, как
бывшему физику-теоретику, уже тогда
было понятно, что мультипликация
движется к компьютерным формам.
Однако все, что связано с
компьютерами, требует больших
финансовых вложений. Нам повезло: в
1997 г. Саша разговорился с одним
своим немецким приятелем, они нашли
общие интересы, и большой
голландский концерн Campina, который в
то время купил немецкую торговую
марку йогуртов Fruttis,
заинтересовался возможностью
сделать с нами телепередачу. В ее
названии должно было быть слово
«Фруттис», а ее брэнд — в самой
передаче. За это они готовы были
платить деньги, и, между прочим,
исключительно из своего рекламного
бюджета. По зарубежным меркам
деньги были, конечно, небольшие, но
для нас достаточные, чтобы собрать
команду и приобрести технику.
 Технику
нам купили в уверенности, что
«Пилот» освоит совершенно новые
технологии. И в этом смысле мы
должны понимать, что старый
кино-Пилот к новому,
телевизионному, никакого отношения
не имеет, за исключением двух
человек: Татарского и меня. Новые
технологии, новая команда, новая
жанровая модель, раз в неделю эфир
— это невероятно тяжело. Нужно было
делать 26-минутную передачу с учетом
того, что в течение 18–20 мин в кадре
работают компьютерные персонажи. И
так — около двадцати минут
компьютерной анимации, совмещенной
с живыми актерами-звездами, — нужно
было сдавать еженедельно. По тем
временам это было просто
невероятно.
Технику
нам купили в уверенности, что
«Пилот» освоит совершенно новые
технологии. И в этом смысле мы
должны понимать, что старый
кино-Пилот к новому,
телевизионному, никакого отношения
не имеет, за исключением двух
человек: Татарского и меня. Новые
технологии, новая команда, новая
жанровая модель, раз в неделю эфир
— это невероятно тяжело. Нужно было
делать 26-минутную передачу с учетом
того, что в течение 18–20 мин в кадре
работают компьютерные персонажи. И
так — около двадцати минут
компьютерной анимации, совмещенной
с живыми актерами-звездами, — нужно
было сдавать еженедельно. По тем
временам это было просто
невероятно.
Первый эфир был 6 декабря 1997 г,
вместо положенного полугода на
освоение технологии у нас была пара
месяцев, вместо необходимых
полутора месяцев тренинга работы
команды — две недели, вместо как
минимум четырех месяцев на
создание — два. Все делалось в
рекордные сроки. Так родился совсем
другой Пилот —
телевизионно-компьютерный.
На Украине, где «Чердачок» никто не
двигал по сетке вещания, передача
стала просто культовой. Это была
наша первая с Татарским работа на
ТВ. За нее наша молодая
телекомпания сразу получила
номинацию на ТЭФИ.
После выполнения договора для
фирмы Campina еженедельный 26-минутный
«Чердачок «Фруттис»», который
выходил в эфир около полутора лет,
превратился в «Чердачок братьев
Пилотов». Потом с ОРТ мы ушли на
полгода на ТВ-6. Затем наступило
подобие кризиса по очень смешной
причине: мы были слишком
высокотехнологичными для
российского ТВ. И наша программа,
хотя и стоит копейки по западным
расценкам, все-таки дорога для
российского ТВ. И только сейчас,
хотя мы стали еще более
технологичными благодаря новому
поколению техники (наверное, и ТВ
отошло от дефолта-98), мы можем
делать эту передачу.
— Какова история фотографии,
висящей в кабинете А. Татарского,
где он изображен с Ельциным?
— Это вручение Госпремии за серию
фильмов о братьях Пилотах («Братья
Пилоты готовят макарончики» и др.).
На деньги спонсора мы сделали 6
серий по 6–7 минут, и с легкой руки
Ролана Быкова Саша получил
Госпремию.
— Как вам удалось найти деньги
на новое оборудование?
— Во-первых, по счастью, цены на
оборудование резко упали. Новая
аппаратура стоит на порядок меньше,
хотя оно следующего поколения.
Во-вторых, деньги вложены частично
каналом ТВ-6, частично — нами.
— Сколько человек работает на
студии?
— Около тридцати.
Говорит Елена
Калиберда, специалист экзотической
профессии — режиссер Motion Capture:
— Мы находимся в одной из двух
виртуальных студий, где
установлены системы Motion Capture. Вот
виртуальный актер Сергей Лобанков,
на нем костюм с датчиками,
беспроводная система. В компьютере
есть трехмерная модель персонажа.
Включается персонаж, все движения
Сергея чудесным образом передаются
ему.

Режиссер Motion Capture Елена Калиберда
Мимика вводится отдельно, с датчиков, расположенных на пальцах рук другого актера. Пальцами он рождает мимику персонажа: моргание и выпучивание глаз, артикуляцию гласных букв, самые тонкие эмоции. Комбинации из двух пальцев (двух эмоций) создают новую эмоцию. Например, сочетание злости и грусти создают удивление. Сочетание букв «а» и «у», но не в полную силу, задают букву «о». Точно так же получаются «и» и «е».
Вопрос Сергею Лобанкову,
актеру Motion Capture
— Каковы особенности
актерской работы с виртуальным
персонажем?
— В отличие от обычной актерской
игры, нужно забыть про свое тело и
жить не своими движениями, а
движениями персонажа, который
виден на мониторе. Приходится под
него подстраиваться.
Мое движение раскоординировано, а
его движение скоординировано. К
этой «раскоординации» надо
привыкнуть. Поэтому новые
персонажи — пока рубленые,
деревянные, несовершенные. Хрюн и
Степан тоже несовершенные, но мы
уже научились добиваться от них
свободы, органики, каких-то более
тонких нюансов.

Сергей Лобанков и его «виртуальный двойник» (на мониторе)
Технический директор
студии Олег Татарников уточняет.
— На студии две системы. Сначала
хотели их вместе сделать, в одном
помещении, подсоединив два
датчик-костюма к одному компьютеру.
В итоге поставили две совершенно
автономные системы, которые
работают параллельно. У каждой —
свой компьютер, свой «фантомный
костюм». Сегодня мы все утро играем
в параллель: один актер работает
здесь, другой — в другой комнате.
Мы переходим в комнату, где
на компьютерах делаются трехмерные
и двухмерные фоны. Отсюда попадаем
во вторую виртуальную студию.
Просторное высокое помещение. Мне
бросается в глаза спортивный
тренажер у стены. Здесь в реальном
времени на Бетакам делается
ежедневная передача «Тушите свет».
Каковы отличия этих
двух виртуальных студий?
— Системы принципиально
отличаются друг от друга: новая
работает на PC, старая — на SGI. Здесь
модели сплайновые, сглаженные. Мы
сразу получаем готовую для эфира
картинку прямо на экране. В новой
системе модель более сложная, и она
полигональная, то есть, если ее
рассматривать более пристально, то
она немножко угловатая. Мы
захватываем движение, а потом
переводим модель в Maya и отсчитываем
ее там, получая сглаженный вариант.
Выставляем сложный свет, тени,
дополнительную анимацию, чистим
трек, который мы отыграли. Но, к
сожалению, система на PC требует
очень много дополнительной работы:
работы в Maya, чистки, переноса из
одного софта в другой, проверки. В
старой системе мы отыграли сцену —
и сразу увидели в real time. А в новой:
отыграли — увидели весьма грубый,
не окончательный вариант; в
конечном итоге этот кадр будет
выглядеть совсем по-другому. То, что
мы сделали, можно увидеть только на
последней стадии, когда персонаж
отсчитан и попадет в нелинейную
монтажку, пройдя весь огромный цикл
превращений.
О. Татарников: По большому
счету, программы и системы тут не
при чем — это выбор подхода и
технологии.
Мы заходим еще в одну комнату с
компьютерами. Здесь же стоит стол
для настольного тенниса. На
мониторах видны лица мимикрирующих
персонажей.
— Здесь делается мимика?
— Мимика делается одновременно с
игрой актера при помощи перчаток
второго актера — «кукловода». А
здесь берут то движение, которое мы
отыграли, и присваивают его модели.
Дальше ставят модель в кадр и
выбирают свет, крупность плана,
ракурсы. Все то, что в Clovis делается
само собой в real time, но с плохим
качеством, здесь можно сделать с
суперкачеством, но на это нужно
время. Можно, например, выставить
сложный свет, с тенями.
На одном из мониторов я вижу
персонаж, явно похожий на Михаила
Горбачева, который парит в воздухе.
Удивляюсь: «Вы и это можете?»
— Конечно. Параметры одного из
датчиков были заданы с
преувеличением. То есть, все
датчики двигались нормально, кроме
одного.
— Какого именно?
— Центрального.
— Имеется в виду центр тяжести?
— Не совсем. Центр этой модели
находится в забавном месте. По
иерархии это та точка, от которой
все растет. Мы начали работать с
новой системой всего полтора
месяца назад. Неделю назад мы
открыли, что можно делать парение.
Дня три назад мы открыли фильтры, с
помощью которых можно исправить
«глючное» движение, так называемые
«флики».
— Как в вашем случае выглядят
флики?
— На работу системы Motion Capture
способна влиять электросеть.
Персонаж двигается нормально, как
реальный человек, и вдруг его, на
самом деле электронного, начинает
выворачивать наизнанку или
переворачивать в пространстве. А
потом опять все нормально. Дело в
том, что в виртуальной студии наши
оба излучателя создают
электромагнитное поле, и все
шестнадцать датчиков считывают
свое положение в пространстве
исключительно относительно этих
излучателей. Понятно, что поле
излучателей каким-то сложным
образом завязано за случайные
электромагнитные наводки
электросети. Поэтому, когда в сети
происходят резкие падения
напряжения — например, во время
обеда десять человек одновременно
включили электрочайники или
обогреватели, электродрель за
стеной включили — у нас все ходуном
ходит.
 — Кто
разрабатывал дизайн персонажей для
вашей новой передачи? В целом они
карикатурны, большие узнаваемые
головы насажены на маленькие
туловища с тонкими ручками-ножками.
— Кто
разрабатывал дизайн персонажей для
вашей новой передачи? В целом они
карикатурны, большие узнаваемые
головы насажены на маленькие
туловища с тонкими ручками-ножками.
— Шаржи делались известным
карикатуристом Виктором Балабасом.
По шаржам лепилась из пластилина
голова. Этим занимались скульпторы.
Дальше модель фотографировали и
отправляли компьютерным
художникам, которые делали
трехмерную сетку, моделируя голову.
После того, как голова принималась
и утверждалась после всех поправок,
начинали делать ее мимику: двигать
отдельные точки, делать фазы
мимики. Потом части объединяли:
насаживали голову на тело. Сейчас у
нас несколько разновидностей тел,
около шести на 26 голов. Методом
комбинаций собираются разные
персонажи.
Говорит Олег
Татарников:
Существует три разновидности
систем Motion Capture: механическая,
электромагнитная и оптическая. У
нас — электромагнитная; она
средняя по цене и по качеству.
Механическая — система простая и
дешевая. К телу актера крепится
железный скелет с шарнирами, на
которых стоят датчики, фиксирующие
углы поворота. Недостатки системы:
она сковывает движения актера,
часто ломается, имеет невысокую
точность при передаче движений. В
электромагнитной системе
(проводной или беспроводной) один
или два излучателя наводят
индуктивность на катушки датчиков,
и по снимаемому сигналу
определяются координаты каждого
датчика. В проводных системах
меньше потери сигнала, точнее
измерения; беспроводные — работают
на более низких частотах, потери
там больше, у них меньше зона
уверенного приема сигнала. Но и в
первых, и во вторых общий принцип
действия: «одна система — один
костюм».

Олег Татарников на фоне SGI
В оптической системе
захват движения осуществляют
видеокамеры (они могут быть самыми
различными: от простых, черно-белых
до сложных, высокоскоростных),
которые фиксируют смещение
светящихся «плюшек», прилепленных
на тело актера. Затем компьютер
анализирует изображение со всех
камер и восстанавливает траектории
движения этих «плюшек». Такие
системы стоят во много раз дороже,
чем электромагнитные. Зато здесь
можно использовать сразу
нескольких исполнителей, не
обремененных дополнительной
аппаратурой. Однако, если их
слишком много, при заслонении
светящихся «плюшек» компьютер
может ошибиться.
— Окупился ли первый комплект
оборудования Motion Picture, который был
приобретен в 1997 г.?
— Мы делали конкретный проект,
рассчитанный на определенное
количество передач «Чердачок
«Фруттис» — 50 эфиров. Был задан
определенный объем передач. Под
этот проект заказчиком были
выделены деньги на приобретение
нужного оборудования. Проект был
реализован и все обязательства
выполнены. Затем мы сделали еще
несколько проектов, уже для себя.
Потом был период кризиса, когда мы с
трудом находили заказы. Передача
«Тушите свет» давала возможность
выйти из него. Мы предлагали проект
разным каналам, но единственным,
кого он заинтересовал, было НТВ.
— Каковы были причины
приобретения вашей студией второго
комплекта Motion Capture?
— Мы сейчас по-прежнему делаем
ежедневную передачу «Тушите свет».
Что-то новое на старом
технологическом уровне мы делать
уже не можем. Для еще одного
технологического цикла не хватает
времени. А сейчас у нас другой,
параллельный проект.
— Каковы преимущества новой
системы Motion Capture?
— Преимуществ два, как и
недостатков, поскольку недостатки
являются продолжением достоинств.
Первое: новый костюм для
виртуального актера —
беспроводной. Правда, мы не сумели
подключить беспроводные перчатки.
Пока мы подсоединили их напрямую,
при помощи проводов. В дальнейшем
мы надеемся самостоятельно решить
все проблемы, и у нас будет
полностью беспроводная система.
Она дает актеру большую свободу
действий.
Второе: Motion Capture — это лишь одна,
небольшая часть технологического
процесса. Подобные системы можно
использовать и для снятия с
человека биометрических данных
(например, для лечения дефектов
походки), и просто снимать движение
как таковое, а потом забирать его в
какую-то 3D программу и далее
работать с ним, как большинство
пользователей системы FilmBox
компании Kaydara. Другая его часть —
это обработка данных движения.
Здесь есть два пути: первый —
сделать трехмерную модель, которая
будет двигаться в реальном времени,
компьютерная графика будет
переводиться в видео, и можно сразу
выходить с ней в эфир или писать ее
на магнитофон. Именно так мы
работаем с нашей первой системой.
Второй путь: снять данные движения,
затем обработать их в какой-либо 3D
программе, просчитать на
компьютере в нужном качестве
(например, для кино).
Сейчас на мировом рынке существует
много конкурирующих продуктов типа
того, какой мы купили недавно —
программа Film Box для PC канадской
фирмы Kaydara. Он значительно, едва ли
не на порядок, дешевле пакета от Media
Lab 1997 г. Мы с ней уже долго мучаемся,
хотя везде в рекламных проспектах
заявлено, что это универсальная,
удобная и чрезвычайно гибкая
программа. Реально продукт не
приспособлен для наших задач. Когда
начинаешь строить конкретную
технологию — то одно, то другое не
работает. И только благодаря нашему
опыту работы с системой Clovis у нас
что-то получается. Впрочем, это беда
всех универсальных решений.
В отличие от PC, компьютер Silicon Graphics
(сейчас SGI) изначально задумывался
как компьютер для работы с графикой
и видео. У него соответствующая
архитектура и программное
обеспечение. И главное, есть
определенный круг
высокопрофессиональных
пользователей этого оборудования
— тех, кто все эти горбыли прошел, и
у кого всегда можно
проконсультироваться о
возникающих проблемах.
Когда мы выбирали студию на базе
Каydara, мы хотели уйти от недостатков
старой. Нас удручала сложность
подготовки персонажа. Сложно было
ввести нового героя и настроить его
для игры. Персонаж надо было делать
в программе, которая давно морально
устарела и которой ни у кого уже
нет, как нет специалистов, умеющих в
ней работать. Но, с другой стороны,
как только этот предварительный
процесс кончается, можно выходить в
эфир и не беспокоиться, что что-то
не сработает.
На PC сейчас все наоборот: персонаж
делается просто — в Softimage, Maya, 3D Studio
Max или LightWave. Эти программы широко
известны и специалистов любого
уровня много. Но вот персонаж готов,
и дальше начинаются сплошные
проблемы...
— Уровень актерской
пластики, наверное, влияет на
качество работы Motion Capture?
— Смотрите сами. Результат работы
на других студиях выглядит хуже,
чем у нас, — даже несмотря на то, что
некоторые из них используют более
сложную систему захвата движения.
Вы же видели: наш Сергей двигается
утрированно, не как нормальный
человек, но именно так необходимо
двигаться, чтобы персонаж на экране
«ожил» и выполнил поставленные
задачи. Я уверен, что технические
проблемы решать значительно проще,
чем кадровые. Без актерской
пластики любая, даже самая
«продвинутая железка» мертва.
При работе с датчиками движения
актер-исполнитель оказывается в
крайне непростых условиях: за счет
несовершенства системы возникают
достаточно грубые рассогласования
его движений и движений
виртуального персонажа. Чтобы
убрать эти несообразности, актер
вынужден сам раскоординировать
свои движения. Можно предполагать,
что вынуждаемая недостатками
технологии «патологизированная»
пластика актера, несомненно,
оказывает определенное
воздействие и на его психику, что
вызывает ослабление творческих
навыков.
Полный текст - в № 4 журнала "ТКТ" за 2002 г.